Глава 27.
А для оставшегося в лагере Анатолия Левитина наступили тяжёлые времена. «Последние километры лагерного пути. Последние километры, как говорят, всегда бывают наиболее трудными. Новый, 1955 год я встречал на Гавриловой Поляне, в бараке, где жили блатные. Помню, в ночь на 1 января видел сон. Иду по улице; а в витрине распятия, распятия, распятия. И какие-то особо страшные распятия, всюду, в каких-то уродливых, невозможных позах. Проснулся с тяжёлым чувством. Видимо, тяжёлый будет год. Так оно и оказалось. В феврале получил от отца ужасное письмо. Ясно, спокойно, своим обычным разгонистым почерком, с идеально расставленными знаками препинания – хоть сейчас в типографию отсылай – он извещал меня о том, что профессор Петровский рентгеноскопическим путём установил у него рак желудка и пищевода. Что операция невозможна, да он и никогда на неё не согласится. Что никаких надежд на выздоровление нет. Что им положены на моё имя в сберкассе на углу Мясницкой десять тысяч, которые я должен получить по освобождении. Что, кроме того, мне надо разделить с мачехой пятнадцать тысяч. Письмо кончалось словами: «Благословляю. Желаю долго жить». В конце июля, уже в другом лагере, на Красной Глинке, куда нас перегнали, в барак пришёл дневальный и сказал, что ко мне приехала мачеха. Я понял сразу: умер отец. Пришёл на вахту. Екатерина Андреевна в тёмном платье. Мои слова: «Что-нибудь ужасное?» Мачеха: «Конечно. Отец скончался».
невозможна, да он и никогда на неё не согласится. Что никаких надежд на выздоровление нет. Что им положены на моё имя в сберкассе на углу Мясницкой десять тысяч, которые я должен получить по освобождении. Что, кроме того, мне надо разделить с мачехой пятнадцать тысяч. Письмо кончалось словами: «Благословляю. Желаю долго жить». В конце июля, уже в другом лагере, на Красной Глинке, куда нас перегнали, в барак пришёл дневальный и сказал, что ко мне приехала мачеха. Я понял сразу: умер отец. Пришёл на вахту. Екатерина Андреевна в тёмном платье. Мои слова: «Что-нибудь ужасное?» Мачеха: «Конечно. Отец скончался».
Он умер в воскресенье 3 июля 1955 года, в жаркий день, после нескольких месяцев тяжёлых страданий. Что-то во мне оборвалось. Окончилась со смертью отца какая-то часть жизни. После июля 1955-го я стал другим. Все престарелые и больные освобождались по актировке (ходатайство лагерной комиссии на досрочное освобождение заключённых признанных негодными, по состоянию здоровья, к дальнейшему отбыванию срока). Ещё не было XX съезда партии, но все двери открылись. Освободились почти все мои друзья, священники, Борис Михайлович Горбунов, Алексей Шершнев, все старички, все люди, которые ещё недавно томились в заключении годы и не надеялись когда-либо увидеть волю. Оставался в заключении один я. В сентябре меня отправили на обследование по поводу моей близорукости. Я пролежал месяц в центральной лагерной больнице на Безымянке – на Самарской окраине, и мне было заявлено, что я страдаю врождённой близорукостью и потому актировке не подлежу. Подлежали актировке только те заключённые, которые приобрели болезнь в лагере. Таким образом, всякие надежды на освобождение рассеялись. Из милости один из старых заключённых, владимирский рабочий, суровый старик, которому я когда-то писал заявление об освобождении, теперь работавший дневальным в бараке, принял меня к себе в помощники. Я носил ежедневно по сотне вёдер, драил полы, топил печку. Потом освободился, как престарелый и мой шеф. Я остался один.
А с воли приходили противоречивые слухи. С одной стороны, как будто какие-то либеральные веяния, с другой стороны, 21 декабря 1955 года совершенно неожиданно, вдруг, с необыкновенной помпой была отмечена некруглая дата – 76-летие со дня рождения Сталина. В «Правде» и в «Известиях» были напечатаны его портреты в форме генералиссимуса, во весь рост. Газеты пестрели статьями, посвящёнными умершему юбиляру, составленными в том же панегирическом тоне, что при его жизни. Это объяснялось, видимо, тем, что Хрущёв с Булганиным были в это время с многодневным визитом в Индии, а идеологическое руководство без них перешло в руки Шепилова и стоящей за ним братии – Молотова, Кагановича, Маленкова. Но все лагерники были этими панегириками сбиты столку. Так заканчивался во многих отношениях знаменательный 1955 год. В начале января 1956 года — новый сюрприз. Остатки 58-й статьи (нас оставалось на весь лагерь всего несколько человек) было решено отделить от бытовиков. Снова поездка в Куйбышев, сидение в тюрьме, потом в арестантских вагонах – в Уфу. Лагерь под городом Салават. Огромный. Две с лишним тысячи человек. Подсобный на нефтяном строительстве. Единственная статья – 58-1 б, измена родине в военное время.
 По этой статье большинство освободилось. Остались лишь те, кто был замешан в каких-либо зверствах: полицаи, люди, работавшие в немецких лагерях надзирателями. Насчёт них в Указе об амнистии содержалась оговорка, что они освобождению не подлежат. Правда, не было расшифровано, что понимать под термином «зверство». Поэтому среди заключённых были люди, действительно участвовавшие в садистских преступлениях, – и сравнительно невинные мужики, служившие во власовской армии, давшие по приказу ротного командира два десятка розог, по старому русскому обычаю, какому-нибудь солдату, или один бывший заведующий столовой в лагере для военнопленных, давший, сгоряча, по физиономии какому-то заключённому, – что было зафиксировано в приговоре. Во всяком случае, общество недавних полицаев и старост – не из приятных. Здесь я был в бригаде, в обязанности которой входило убирать снег на строительстве. Тяжёлая работа. На Урале снега – видимо-невидимо, идёт он иной раз круглые сутки. Убираешь, убираешь до поздней ночи. Смотришь, утром навалило опять сугробы выше человеческого роста. В середине апреля получил я письмо из Москвы. Пишут: «В ближайшее время Вы будете освобождены; никакие прокуроры этому помешать не смогут». А через несколько дней подбегает ко мне один заключённый москвич – один из немногих оставшихся москвичей – и с ликующим видом говорит: «Идёмте в библиотеку! Говорят, в «Правде» Уса (Сталина) ругают». Это была первая статья, в которой излагались основные тезисы закрытого доклада Хрущёва на XX съезде с разоблачением культа личности Сталина. Пасха была в этом году поздняя: кажется, 5 мая. Весеннее тепло пришло и сюда, за Урал. Ночью, выйдя из барака, я мысленно присутствовал на светлой заутрене. Хорошая, душистая ночь. Небо всё в звёздах. Тёплый ветер чуть шевелит ветвями, усеянными весенними почками…
По этой статье большинство освободилось. Остались лишь те, кто был замешан в каких-либо зверствах: полицаи, люди, работавшие в немецких лагерях надзирателями. Насчёт них в Указе об амнистии содержалась оговорка, что они освобождению не подлежат. Правда, не было расшифровано, что понимать под термином «зверство». Поэтому среди заключённых были люди, действительно участвовавшие в садистских преступлениях, – и сравнительно невинные мужики, служившие во власовской армии, давшие по приказу ротного командира два десятка розог, по старому русскому обычаю, какому-нибудь солдату, или один бывший заведующий столовой в лагере для военнопленных, давший, сгоряча, по физиономии какому-то заключённому, – что было зафиксировано в приговоре. Во всяком случае, общество недавних полицаев и старост – не из приятных. Здесь я был в бригаде, в обязанности которой входило убирать снег на строительстве. Тяжёлая работа. На Урале снега – видимо-невидимо, идёт он иной раз круглые сутки. Убираешь, убираешь до поздней ночи. Смотришь, утром навалило опять сугробы выше человеческого роста. В середине апреля получил я письмо из Москвы. Пишут: «В ближайшее время Вы будете освобождены; никакие прокуроры этому помешать не смогут». А через несколько дней подбегает ко мне один заключённый москвич – один из немногих оставшихся москвичей – и с ликующим видом говорит: «Идёмте в библиотеку! Говорят, в «Правде» Уса (Сталина) ругают». Это была первая статья, в которой излагались основные тезисы закрытого доклада Хрущёва на XX съезде с разоблачением культа личности Сталина. Пасха была в этом году поздняя: кажется, 5 мая. Весеннее тепло пришло и сюда, за Урал. Ночью, выйдя из барака, я мысленно присутствовал на светлой заутрене. Хорошая, душистая ночь. Небо всё в звёздах. Тёплый ветер чуть шевелит ветвями, усеянными весенними почками…
А через несколько дней мы узнали, что к нам приезжает комиссия по освобождению заключённых. 22 мая – Николин день. Я дал пять рублей нарядчику (после смерти отца я располагал некоторыми средствами) и не пошёл на работу. А к вечеру ребята из нашей бригады, придя с работы, сообщили, что 24 мая наша бригада должна проходить комиссию. 23 мая – последний день на работе. Таскали бревна. 24 мая – комиссия. Вызывают человека. После пятиминутного опроса, носившего исключительно формальный характер, выходит. Через минуту звонок. Вам объявляют об освобождении. 25 мая мне было официально объявлено об освобождении со снятием судимости. А 26 мая я вышел за лагерные ворота. После семи лет заключения – я свободен.
1956 год – переломный год. В историю он войдет наряду с 1861 годом – годом отмены крепостного права. Дело не только в том,  что был повержен идол, который властвовал над умами половины населения земного шара. Дело не только в том, что миллионы людей, обречённые на пожизненное заключение, обрели свободу. Главное – в другом. На протяжении десятков лет над полумиром царила вера в непогрешимость советского режима, воплощённого в лице советского правительства и его вождей Ленина-Сталина. Эта вера господствовала не только над умами десятков миллионов людей в Советском Союзе; в этой вере не только рождались, воспитывались и умирали целые поколения. Эта вера владела умами и миллионов людей во всём мире. Её исповедовали миллионы коммунистов, миллионы им сочувствующих, тысячи свободолюбивых интеллигентов. Она одерживала всё новые и новые победы и захватывала всё новые и новые массы загипнотизированных, заворожённых. Это было так чарующе, и так хотелось этому верить. В этом мире ошибок и превратностей воздвигнута была твёрдая скала. Пятьдесят три года, как возникла коммунистическая партия; тридцать девять лет, как она правит необъятной российской империей; одиннадцать лет, как она владеет полумиром. Партия всегда права, она руководится непогрешимыми вождями; они всегда указывают верный и безошибочный путь. Все нападки на партию – кощунственная ложь, порождённая алчностью капиталистов, классовой ненавистью врагов, ложь, которую надо разоблачать, карать, которой нельзя верить, носителей которой надо уничтожать.
что был повержен идол, который властвовал над умами половины населения земного шара. Дело не только в том, что миллионы людей, обречённые на пожизненное заключение, обрели свободу. Главное – в другом. На протяжении десятков лет над полумиром царила вера в непогрешимость советского режима, воплощённого в лице советского правительства и его вождей Ленина-Сталина. Эта вера господствовала не только над умами десятков миллионов людей в Советском Союзе; в этой вере не только рождались, воспитывались и умирали целые поколения. Эта вера владела умами и миллионов людей во всём мире. Её исповедовали миллионы коммунистов, миллионы им сочувствующих, тысячи свободолюбивых интеллигентов. Она одерживала всё новые и новые победы и захватывала всё новые и новые массы загипнотизированных, заворожённых. Это было так чарующе, и так хотелось этому верить. В этом мире ошибок и превратностей воздвигнута была твёрдая скала. Пятьдесят три года, как возникла коммунистическая партия; тридцать девять лет, как она правит необъятной российской империей; одиннадцать лет, как она владеет полумиром. Партия всегда права, она руководится непогрешимыми вождями; они всегда указывают верный и безошибочный путь. Все нападки на партию – кощунственная ложь, порождённая алчностью капиталистов, классовой ненавистью врагов, ложь, которую надо разоблачать, карать, которой нельзя верить, носителей которой надо уничтожать.
 И вот, этот миф рассеялся в один месяц, в один день, в один час. В тот момент, когда первосвященник коммунистической антицеркви признал, что всё, о чём говорит антисоветская пропаганда, – не ложь, а правда. И даже больше того, раскрыл такие вещи, какие не снились даже самым ярым антисоветчика, – как, например, то, что Киров был убит по инициативе Сталина. И всем стало ясно, что во главе непогрешимой партии стоял злодей, деспот, человекоубийца и лицемер, величайший из всех, кого знала история. Это была разорвавшаяся бомба – бомба, которая начала величайшую взрывную волну в истории, взрывную волну, которая не только не улеглась, но которая с тех пор пересиливается с каждым годом. 26 мая после оформления всех документов я сел на поезд, идущий из Уфы в Самару. Сделал двухдневную остановку в приволжском городе, у Бориса Михайловича Горбунова. А 29 мая за окнами вагона замелькали знакомые подмосковные станции. Впереди Москва. Новая жизнь. Новые беды, опять крестный путь».
И вот, этот миф рассеялся в один месяц, в один день, в один час. В тот момент, когда первосвященник коммунистической антицеркви признал, что всё, о чём говорит антисоветская пропаганда, – не ложь, а правда. И даже больше того, раскрыл такие вещи, какие не снились даже самым ярым антисоветчика, – как, например, то, что Киров был убит по инициативе Сталина. И всем стало ясно, что во главе непогрешимой партии стоял злодей, деспот, человекоубийца и лицемер, величайший из всех, кого знала история. Это была разорвавшаяся бомба – бомба, которая начала величайшую взрывную волну в истории, взрывную волну, которая не только не улеглась, но которая с тех пор пересиливается с каждым годом. 26 мая после оформления всех документов я сел на поезд, идущий из Уфы в Самару. Сделал двухдневную остановку в приволжском городе, у Бориса Михайловича Горбунова. А 29 мая за окнами вагона замелькали знакомые подмосковные станции. Впереди Москва. Новая жизнь. Новые беды, опять крестный путь».
Глава 28.
«…Вспоминая нашу совместную жизнь в Старо-Семейкино и на Гавриловой поляне, мы говорили, что и наши жёны, и мы сами нисколько не тяготились полным отсутствием хоть какого-нибудь намёка на комфорт. Мебель – топчаны и столы на козлах, лавки и табуретки, еда почти без мяса, масла и молочных продуктов. И всё же мы были счастливы, хотя и чувствовали себя «козлами», за которыми организована тайная слежка, и в любой день нас могли выгнать с работы или посадить. Мы были счастливы благодаря нашей молодости, благодаря нашей энергии. И при всех обстоятельствах, несмотря на всяческие ущемления, мы всегда надеялись на лучшие времена в далёком будущем. На Гавриловой поляне я общался только с теми несколькими «зеками», с которыми я и двое моих помощников выходили на полевые работы.  «Зеки» эти ещё мальчишками были осуждены на десятку по закону от «седьмого-восьмого» за мелкие кражи в колхозах, в лагере они повзрослели. А тогда действовала система зачётов. Хорошо работаешь – то тебе срок снижается, очень хорошо – день считается за два. Трудившиеся в нашей геологической партии «зеки» были на привилегированном положении: они ходили без охраны, по пропускам, получали отменные характеристики и считали, что благодаря зачётам их скоро освободят. Берия, став наркомом НКВД, одним росчерком пера систему зачётов отменил. Ждали в лагерях беспорядков, нас предупредили – повысить бдительность, но всё обошлось. Бедные «зеки», конечно, переживали. Иные надеялись, что их вот-вот отпустят, а, оказывается, им сидеть ещё годы. Они пережили крушение своих надежд безропотно.
«Зеки» эти ещё мальчишками были осуждены на десятку по закону от «седьмого-восьмого» за мелкие кражи в колхозах, в лагере они повзрослели. А тогда действовала система зачётов. Хорошо работаешь – то тебе срок снижается, очень хорошо – день считается за два. Трудившиеся в нашей геологической партии «зеки» были на привилегированном положении: они ходили без охраны, по пропускам, получали отменные характеристики и считали, что благодаря зачётам их скоро освободят. Берия, став наркомом НКВД, одним росчерком пера систему зачётов отменил. Ждали в лагерях беспорядков, нас предупредили – повысить бдительность, но всё обошлось. Бедные «зеки», конечно, переживали. Иные надеялись, что их вот-вот отпустят, а, оказывается, им сидеть ещё годы. Они пережили крушение своих надежд безропотно.
Ещё с лета Бонч, Куманин и я занялись заготовкой дров. В ближайших окрестностях дома № 2, в лесной чаще, мы выбирали сухое дерево, валили, обрубали сучья, волокли верёвками брёвна вновь, распиливали их, раскалывали и добросовестно делили дрова на троих. И всё же было ясно: Клавдии и сыновьям зиму на Гавриловой поляне не выдержать. Мальчики простужались, болели. А тут ещё с продуктами стало хуже. Хлеб мне выдавали по 600 граммов ежедневно, семье не полагалось нисколько. Спасибо девушкам-коллекторам. Они помнили, как год назад я спас их подругу Ниночку от тюрьмы, и каждый день трогательно приносили Клавдии пайку. Вообще у коллекторов – девушек и юношей – я пользовался популярностью. На одном собрании выбирали профорга, и вдруг все они дружно закричали: «Голицына, Голицына!» Соколов с Анашкиным переглянулись, пожали плечами. Шестикрылый Серафим сказал, что Голицын, возможно бы, и подходил, но он очень занят на основной работе. Я взял слово, поблагодарил за честь, но решительно отказался. Выбрали другого. Нам, «козлам», нельзя было доверять никаких общественных работ. Отпуска нам только обещали, но всё откладывали. Соколов и Тюрин говорили: «Закончите это и ещё вот это – и отпустим». Я старался сверх всякой меры, и снова «набегало» какое-то срочное задание. А зима приближалась, нагрянули морозы. В последние дни перед закрытием навигации Клавдия с мальчиками решилась уезжать. Я их провожал, посадил на вокзале в вагон поезда и вернулся обратно жить одному в ожидании отпуска.
Топил я печку очень сильно, а всё равно к утру воздух в комнате остывал. Тепло уходило через чердак. Так продолжалось, пока на первом этаже не открылся магазин, в котором продавалось вино и очень мало продуктов. Как раз под моей комнатой поселилась продавщица. Она тоже начала топить сверх всякой меры, и тепло её печки шло ко мне. Я мог вообще не топить, сушил валенки очень просто — на ночь ставил их на пол возле печки, а утром обувал тёплыми и сухими. Не правда ли, как удобно? А продавщица называла меня «паразитом» …
В Европе тогда развивались бурные события. Сначала было заключено Мюнхенское соглашение о Чехословакии, потом началась война Германии с Англией и Францией, рухнула Польша, внезапно подружились Сталин с Гитлером, три прибалтийские республики стали советскими, потом была непонятная для народа финская война. Конечно, мы разговаривали о всех тех событиях, просто нельзя их было замалчивать, откровенно радовались, что увеличилась территория нашей страны. А тогда ходили слухи, видимо, идущие от верхов, что мы собираемся осуществить давнюю мечту Российской империи – захватить проливы Босфор и Дарданеллы. Но разговаривали мы хоть и оживлённо, однако старались придерживаться газетных статей. У меня с отцом шла деятельная переписка, но мы помнили, что письма наши могут вскрываться, и далеко не все доверяли бумажным листкам. Мой отец искренне радовался успехам нашей страны во внешней политике. Время показало, что надо было не радоваться, а с тревогой вглядываться в будущее…
Наконец, в декабре 1939 года, я получил долгожданный отпуск и поехал в Москву. Тот отпуск мне вспоминается как сплошное веселье. Жили на Живодёрке, родители Клавдии спали на единственной кровати, мы вчетвером спали на полу. И каждый вечер Клавдия и я отправлялись то в театр, то в гости. Муж сестры Клавдии, Серафимы, Борис Александров был артистом театра Красной армии, и, естественно, мы повидали там все постановки того сезона. Очень мне понравилась пьеса А. Корнейчука «Гибель эскадры», в которой Борис – безусловно, талантливый артист – играл мичмана, видели также «Укрощение строптивой» Шекспира, там Борис играл слугу. А пошли мы в театр Революции на расхваливаемую бойкими критиками пьесу Н. Погодина «Мой друг», и я потащил Клавдию домой со второго действия. Тогда по всей Москве гремела трагедия Шекспира «Отелло» в Малом театре с Остужевым в главной роли, но билеты достать было невозможно. Я вспомнил, как благодаря Южину, ещё подростком, видел там в двадцатых годах все постановки, и решился пойти к его вдове в Большой Палашовский переулок. Мария Николаевна встретила меня очень любезно, расспрашивала о моих родителях и показала мне подлинный мемориальный музей-квартиру Южина. Вряд ли кто там бывал, там висели картины известных художников, фотографии многих знаменитостей с дарственными надписями, стояла старинная мебель. А после кончины хозяйки все эти ценности были свалены в подвале здания Малого театра, наверное, и до сих пор они там покоятся, если только не разграблены. Мария Николаевна дала мне записку к одной кассирше. Так достал я два билета по безмерно дорогой цене в партер. И мы получили высочайшее наслаждение от поистине гениальной игры великого артиста. Нынешним зрителям и во сне такое не увидеть. Рядом с нами сидел военачальник. Я его узнал по фотографиям. Это был прославляемый тогдашними газетами командарм Павлов, на которого полтора года спустя Сталин свалил всю вину за неудачи наших войск в первые дни войны…
Раза два-три, я ездил в Дмитров к родителям. Они и Владимир с семьёй переселились в новую, более просторную квартиру по улице Кропоткина (бывшую Дворянскую), тётя Саша жила напротив в прежней комнате. Владимиру жить стало лучше и веселее. И боль в коленке прошла, и заработки к нему вернулись. В издательствах и редакциях стали к нему относиться благосклоннее. Он работал в журналах «Пионер», «Мурзилка», «Краснофлотец». Очень его увлекало изобретение игр. Нередко вокруг Владимира толпились мальчишки со всей улицы, с ними он эти игры прорабатывал. Он любил ребят, и они его любили, разинув рты слушали его рассказы, раз в неделю всех их он водил в городскую баню. Меня очень обрадовал мой отец. Он нашёл занятие, которое его увлекло, и он словно помолодел. Прежнее его угнетённое состояние, из-за вынужденного сидения сложа руки, ушло в прошлое. Он писал воспоминания. Для кого? Для себя, для своих детей, для внуков, надеялся, что когда-нибудь ими заинтересуются историки. Он вспоминал рассказы своих родителей, своё детство, знаменитую «Поливановскую гимназию», потом студенческие годы, вспоминал, как полюбил будущую жену, писал о своей трудовой деятельности… Ныне приходится постоянно читать, что дворяне – это классовые враги, а уж предводитель дворянства в десять раз хуже. Страницы воспоминаний моего отца, посвящённые его деятельности как предводителя дворянства Епифанского уезда Тульской губернии с 1897 года, являются наиболее интересными и для историка, и, хочу надеяться, в далёком будущем и для рядового читателя. Да, другие предводители дворянства защищали интересы своего класса. Мой отец занимался земской деятельностью, хлопотал об открытии школ, об открытии больниц и амбулаторий, о ремонте дорог, о строительстве мостов. Он всё время боролся с властями, которые постоянно ему препятствовали. Он старался не в пользу дворянства, а в пользу народа, в пользу крестьян Епифанского уезда.
Должность предводителя дворянства считалась общественной, мой отец никакого жалованья не получал, наоборот, ему приходилось порой тратить свои средства. Правительство награждало предводителей орденами. Мой отец казался властям чересчур красным, и тульский губернатор Шлиппе не утвердил его избрание на четвёртый срок, что тогда расценивалось как пощёчина всем епифанским либералам. И мой отец так никогда и не получил никакого, хоть самого незначительного орденочка. Он говорил: «Ну и Бог с ними!» У меня хранится перепечатанный экземпляр отчёта моего отца о состоянии школ в Епифанском уезде на 20 страницах; только по одному этому документу видно, как плодотворна для народа была его общественная деятельность, когда он находился под тайным надзором полиции, о чём я уже упоминал. Всё это я сообщаю потому, что именно его предводительство и плюс княжество являлось основной причиной гонений на него самого, на его сыновей и дочерей после революции. Как он наслаждался, работая над воспоминаниями, читал их вслух своей жене и сыну Владимиру! Они вносили поправки. Так и я сорок лет спустя наслаждался, когда тайно писал «в стол» первую половину своих воспоминаний, не думая о редакторах, отвергающих самые красноречивые места, и я тоже читал их вслух только самым близким родным, и они тоже что-то дополняли, вносили поправки. Дальнейшая судьба отцовых воспоминаний такова: рукопись отвезли в Талдом, где жила сестра отца тётя Эли Трубецкая. После ареста мужа, сына и двух старших дочерей она покинула место ссылки мужа – город Андижан и с четырьмя младшими детьми поехала ближе к Москве, поселилась за сто километров от столицы. Её братья в складчину купили ей пишущую машинку, через них она получала и печатала рукописи их знакомых, получала небольшой заработок. Перепечатала она и воспоминания моего отца; вышло более шестисот страниц, но лишь в двух экземплярах, бумагу-то доставали с трудом. Во время войны при обыске у неё был забран подлинник и один из перепечатанных экземпляров. Вернувшись с войны, я отдал единственный уцелевший текст машинистке… Четыре копии я переплёл, получилось по два тома, я раздал сёстрам, один двухтомник оставил себе. Мы предлагали в Ленинскую библиотеку, но тамошние руководители никакого интереса к рукописи не проявили. Изредка я даю читать своим знакомым оба драгоценных тома…1940-й, новый год решили встречать вместе – у моей самой младшей сестры Кати и её мужа Валерия Перцова, в Молочном переулке. Пришли сестра Маша с мужем Всеволодом Веселовским, брат Владимир с женой Еленой, несколько родственников и друзей. На ветви ёлки прикрепили свечи и цепи, состоявшие из сосисок, развесили тоненькие пробирки, наполненные окрашенным в разные цвета спиртом. При свечах пробирки играли синими, зелёными, красными огоньками. Детей – двух мальчиков – уложили спать. И начали пировать и веселиться, сидя на полу на коврах – провожали. В тот новогодний вечер, находясь «в подпитии большом», мы вздумали качать Всеволода. Почтенный доктор наук взлетал так высоко, что головой проделал на потолке углубление. В течение многих, вплоть до ремонта квартиры, лет это углубление показывалось гостям как своего рода достопримечательность…
 Мой отпуск кончился, и я уехал в Куйбышев один. Да, надеяться получать тепло от жившей на первом этаже продавщицы магазина, было рискованно. А вдруг она проворуется, а вдруг уедет? А сёстры Клавдии, узнав, что у нас сколоченная из досок весьма примитивная мебель и нет на окнах занавесок, в один голос завопили: «Нельзя жить в таких ужасающих условиях! Да ещё с продуктами плохо. Нет, нет, ни в коем случае!» И Клавдия с детьми осталась в Москве у родителей, пообещав приехать весной. Неуютно и тоскливо мне было жить одному. Тепло шло с первого этажа, а печку я топил, только разогревая ужин. Наконец наступила долгожданная весна, и я во второй раз в жизни наблюдал грандиозный ледоход на Волге. Клавдия с мальчиками приехала, как только началась навигация. Снова открылся против нашего дома пионерлагерь. Мы ждали нападения от его служащих. Нет, они, видно, смирились с нашим соседством.
Мой отпуск кончился, и я уехал в Куйбышев один. Да, надеяться получать тепло от жившей на первом этаже продавщицы магазина, было рискованно. А вдруг она проворуется, а вдруг уедет? А сёстры Клавдии, узнав, что у нас сколоченная из досок весьма примитивная мебель и нет на окнах занавесок, в один голос завопили: «Нельзя жить в таких ужасающих условиях! Да ещё с продуктами плохо. Нет, нет, ни в коем случае!» И Клавдия с детьми осталась в Москве у родителей, пообещав приехать весной. Неуютно и тоскливо мне было жить одному. Тепло шло с первого этажа, а печку я топил, только разогревая ужин. Наконец наступила долгожданная весна, и я во второй раз в жизни наблюдал грандиозный ледоход на Волге. Клавдия с мальчиками приехала, как только началась навигация. Снова открылся против нашего дома пионерлагерь. Мы ждали нападения от его служащих. Нет, они, видно, смирились с нашим соседством.
И снова, как год назад, пионерский повар поселился в третьей комнате нашей квартиры и щедро снабжал нас остатками пионерских обедов, а милые девушки-коллекторши каждый вечер приносили нам пайку хлеба. Многие служащие завели огород недалеко от конторы. Мы с Клавдией вскопали несколько грядок под овощи и картошку. По вечерам, уложив детей спать, мы отправлялись вдвоем полоть и поливать. Однажды кто-то прибежал на огород и закричал: «Второй дом горит!». Огородники помчались что есть духу. Бежать предстояло целый километр, да еще в гору. Я задохнулся, силы оставляли меня. Клавдия бежала далеко сзади. Что я тогда пережил! Мне представился объятый пламенем дом. Там спят наши мальчики. Прибежал, вокруг дома толклась толпа. Горел магазин как раз под нашей квартирой. От лагеря «зеков» примчалась пожарная машина. Пожар быстро затушили. Молодцы пожарники-«зеки»!
Потом шептались, что продавщица, желая скрыть недостачу, сама подожгла магазин. Но каково было остальным жильцам!.. В то лето впервые приехала к нашему старшему геологу Серафиму Григорьевичу Соколову его семья — жена, дочка и сын. Наталия Николаевна сразу подружилась с моей Клавдией, и дети наши постоянно играли вместе. Под страшным секретом она призналась, что её отцом был известный московский кадетский деятель Николай Николаевич Астров, расстрелянный в первые годы Советской власти, вместе с моим отцом он служил в городской управе. Узнав, чья она была дочь, я догадался, что её муж – Шестикрылый Серафим – несомненно, был дворянином, но своё происхождение скрывал. А после войны он прославился на всю страну. Именно благодаря его инициативе створ Куйбышевского гидроузла был перенесён много выше по течению Волги под Ставрополь. Так вся пространная и плодородная долина реки Сок была спасена от затопления. За этот перенос плотины Соколов стоял первым в списке получивших Сталинскую премию…
Поступил в нашу изыскательскую партию некий пожилой житель Куйбышева, отдали его в моё распоряжение носить инструменты. Не очень он был грамотным, зато оказался находчивым строителем и бойким рассказчиком. Он присмотрел на берегу Волги кирпичную «развалюху» выпросил у Анашкина лес и сам по вечерам её ремонтировал. Он перевёз жену и маленькую дочку, завёл корову и своего непосредственного начальника, то есть меня, снабжал молоком. По дороге на работу или с работы он без умолку мне рассказывал, да ещё по вечерам я иногда заходил в его уютную хибарку слушать рассказы о дореволюционной Самаре. Когда-то он занимал должность бильярдного маркера при самарском купеческом клубе, организовывал бильярдные состязания, сам в них участвовал и наблюдал за нравами тамошних богатеев. На торговле хлебом самарские купцы наживали огромные состояния, а деньги тратили в диких оргиях и кутежах. Этот же маркер разыскивал по всему городу в бедных семьях девушек, подчас малолетних, и сватал их купцам и их сынкам. А они, бывало, в рояль доверху наливали коньяк, поджигали его, бросали в пламя сотенные бумажки, и раздетые девушки должны были эти бумажки выхватывать и брать себе. Рассказывал маркер о публичных домах, какие жуткие извращения и глумления позволяли себе расходившиеся в кутежах пьяные купцы.
Кто из них был поскромнее, играл с маркером в шахматы. Вдоль левого берега Волги почти до самой Красной Глинки высились купеческие дачи, одна другой вычурнее. Купцы хорохорились один перед другим, как бы выстроить их почуднее. Последний из них воздвиг по сторонам здания двух гигантских алебастровых слонов, которых хорошо было видно с парохода. Я их застал уже облезлыми, у одного отломался хобот. Не знаю, что бы придумал архитектор для следующей купеческой дачи, но «помешала» революция. На мой вопрос, какова была дальнейшая судьба всех этих купцов, маркер отвечал, что большинство из них, забрав драгоценности, скрылось, а некоторые были расстреляны. Маркер рассказывал об удивительном купце Челышеве, который всей своей жизнью и деятельностью резко отличался от остальных самарских воротил. Высокий, дородный, с длинной чёрной бородой, он держался особняком, не только не участвовал в кутежах, но был принципиальным трезвенником. Его выбрали председателем Всероссийского общества трезвости. По его почину на пожертвования по всей стране организовались народные дома (клубы), библиотеки-читальни, другие просветительные заведения, чтобы отвадить народ от алкоголя; выбрали его и депутатом Государственной думы.
высились купеческие дачи, одна другой вычурнее. Купцы хорохорились один перед другим, как бы выстроить их почуднее. Последний из них воздвиг по сторонам здания двух гигантских алебастровых слонов, которых хорошо было видно с парохода. Я их застал уже облезлыми, у одного отломался хобот. Не знаю, что бы придумал архитектор для следующей купеческой дачи, но «помешала» революция. На мой вопрос, какова была дальнейшая судьба всех этих купцов, маркер отвечал, что большинство из них, забрав драгоценности, скрылось, а некоторые были расстреляны. Маркер рассказывал об удивительном купце Челышеве, который всей своей жизнью и деятельностью резко отличался от остальных самарских воротил. Высокий, дородный, с длинной чёрной бородой, он держался особняком, не только не участвовал в кутежах, но был принципиальным трезвенником. Его выбрали председателем Всероссийского общества трезвости. По его почину на пожертвования по всей стране организовались народные дома (клубы), библиотеки-читальни, другие просветительные заведения, чтобы отвадить народ от алкоголя; выбрали его и депутатом Государственной думы.
Царское правительство косо смотрело на эту его столь полезную для народа деятельность. И такой выдающийся человек без всякого суда, и следствия был расстрелян в первый год революции. Расскажу об одной жительнице Куйбышева, о которой, наверное, до конца жизни буду вспоминать. Ещё когда я впервые приехал в этот город, то собрался навестить Мериньку Львову, урождённую графиню Гудович. Но тогда арестовали её мужа Сергея Львова, и я, признаться, поостерегся её посещать, тем более что и добираться из Старо-Семейкино до Куйбышева было сложно. Из Гавриловой поляны в летнюю пору ходили по Волге речные трамвайчики. С 1939 года Меринька с двумя мальчиками постарше моих – Сашей и Серёжей – время от времени приезжала к нам по воскресеньям. Вместе мы ходили на Волгу купаться. А пляж у нас с мелким песком был замечательный. И мы, случалось, всей семьей останавливались у Мериньки на два-три часа или на ночлег, благо жила она недалеко от вокзала. Она рисовала для местных учебных заведений какие-то плакаты и числилась художницей. Живя с двумя сыновьями, Меринька очень скучала и к нам относилась с большой теплотой, чувствуя в нас близких друзей. А хороша она была, я всегда издали ею любовался. Мелкие черты лица, маленький рот, маленький точёный нос и большие, с длинными ресницами глаза, идущие от предков – Шереметевых, Вяземских и Параши  Жемчуговой. К ней приехала мать – графиня Мария Сергеевна Гудович, урождённая графиня Шереметева. Она была со следами былой красоты, миниатюрная, также с огромными «шереметевскими» серыми, с поволокой глазами, породиста до кончиков маленьких и тонких пальцев. Её муж кутаисский губернатор был расстрелян в первый год революции; а старший сын Дмитрий на канале Москва – Волга в 1937 году. Жила она у младшего сына Андрея, после окончания канала Москва – Волга работавшего на строительстве Рыбинского гидроузла; и из Рыбинска приехала на пароходе к дочери на всё лето.
Жемчуговой. К ней приехала мать – графиня Мария Сергеевна Гудович, урождённая графиня Шереметева. Она была со следами былой красоты, миниатюрная, также с огромными «шереметевскими» серыми, с поволокой глазами, породиста до кончиков маленьких и тонких пальцев. Её муж кутаисский губернатор был расстрелян в первый год революции; а старший сын Дмитрий на канале Москва – Волга в 1937 году. Жила она у младшего сына Андрея, после окончания канала Москва – Волга работавшего на строительстве Рыбинского гидроузла; и из Рыбинска приехала на пароходе к дочери на всё лето.
Однажды побывала она и у нас с дочерью и внуками на Гавриловой поляне. Я настропалил сыновей, чтобы вели себя смирно, не баловались. Раньше я им рассказывал, как в детстве меня заставляли сидеть за обедом неподвижно и прямо, положив четыре пальца левой руки на скатерть. По случаю приезда гостей Клавдия постелила на дощатый стол простыню. Мы сели обедать, мой старший сын Гога, сидя на лавке, застыл, выпрямившись, и положил четыре пальчика на край стола. Когда гости уехали, он мне сказал про Марию Сергеевну, что она совсем не такая, как «другие тёти»… Неожиданно у Клавдии вздулись нарывы на обеих руках под мышками, поднялась высокая температура, в народе это называется «сучье вымя». Она не могла двигать руками. Врачиха при лагере «зеков» ничем не могла помочь, а в городе попасть в поликлинику было очень трудно. После окончания финской войны в куйбышевских госпиталях находилось много обмороженных воинов. Мериньку как художницу привлекли рисовать обмороженные части рук и ног ратников. Эти рисунки были нужны для научных исследований, они считались секретными, но я их видел и ужасался. Я надеялся, что Меринька сумеет по знакомству показать Клавдию военным врачам. Анашкин, милый человек, отпустил меня на свой страх и риск (дисциплина прежде всего). Клавдия и я поехали и прямо отправились к Мериньке. Она сказала, что обыкновенным гражданам к врачам, и гражданским, и военным, попасть почти невозможно, тем более что Клавдия числилась моей бесправной иждивенкой. Но живет в Куйбышеве одна старушка — тайная ворожея и лечит заговором, берёт по десятке. Меринька повела к ней Клавдию, а я остался ждать. Через час они вернулись. Я сразу убедился, что Клавдия выглядела лучше.
Она рассказала, как старушка бормотала, размахивала руками, дула и плевалась. В тот же вечер оба нарыва прорвались, вытекло много гноя, и температура у Клавдии спала, и она поправилась. Вскоре Меринька приехала к нам. Мы пошли купаться на волжский пляж. Я обратил внимание, что у неё был очень красивый купальный костюм, чёрный, с широкой голубой полосой, нашитой наискось от правого плеча. Меринька нам сказала, что сняла дачу в Царевщине – это  старинное село на другом берегу Волги, следующая пристань после Гавриловой поляны. Она взяла с нас слово, что мы всей семьей приедем к ней в гости, объяснила, как её найти. В один из ближайших дней Клавдия проснулась и сказала, что видела про Мериньку ужасный сон – с ней что-то случилось. Я спешил на работу, сказал что-то вроде: «Глупости какие!» – и ушёл. Во второй половине дня Клавдия пришла ко мне на работу. А не полагалось, чтобы жёны являлись к мужьям, усматривали в этом нарушение дисциплины. Она вызвала меня в коридор и сказала, что одна приехавшая с пароходом женщина говорила: в городе идут разговоры, что утонула какая-то художница. Где, когда утонула – женщина не знала. Клавдия уверяла меня, что это наверняка Меринька, говорила, задыхаясь от волнения, смотрела на меня умоляющими глазами. Я пытался её успокоить: мало ли в Куйбышеве художниц? Она продолжала настаивать: скоро пойдет вверх по Волге пароход, умоляла меня поехать в Царевщину, разузнать. Вечером я поехал. В избушке, где Меринька снимала дачу, застал только хозяйку. Она подтвердила страшную весть. Да, Меринька утонула, и тело никак не могут найти. Её мать увезла внуков в город. На мой вопрос, как это случилось, хозяйка рассказала: пошла Мария Александровна вдвоём с младшим сыном – шестилетним Сережей на Волгу купаться, и вдруг он с плачем прибежал один. Кое-как от него дознались, что его мама бросилась в воду, нырнула, но не вынырнула. И всё…
старинное село на другом берегу Волги, следующая пристань после Гавриловой поляны. Она взяла с нас слово, что мы всей семьей приедем к ней в гости, объяснила, как её найти. В один из ближайших дней Клавдия проснулась и сказала, что видела про Мериньку ужасный сон – с ней что-то случилось. Я спешил на работу, сказал что-то вроде: «Глупости какие!» – и ушёл. Во второй половине дня Клавдия пришла ко мне на работу. А не полагалось, чтобы жёны являлись к мужьям, усматривали в этом нарушение дисциплины. Она вызвала меня в коридор и сказала, что одна приехавшая с пароходом женщина говорила: в городе идут разговоры, что утонула какая-то художница. Где, когда утонула – женщина не знала. Клавдия уверяла меня, что это наверняка Меринька, говорила, задыхаясь от волнения, смотрела на меня умоляющими глазами. Я пытался её успокоить: мало ли в Куйбышеве художниц? Она продолжала настаивать: скоро пойдет вверх по Волге пароход, умоляла меня поехать в Царевщину, разузнать. Вечером я поехал. В избушке, где Меринька снимала дачу, застал только хозяйку. Она подтвердила страшную весть. Да, Меринька утонула, и тело никак не могут найти. Её мать увезла внуков в город. На мой вопрос, как это случилось, хозяйка рассказала: пошла Мария Александровна вдвоём с младшим сыном – шестилетним Сережей на Волгу купаться, и вдруг он с плачем прибежал один. Кое-как от него дознались, что его мама бросилась в воду, нырнула, но не вынырнула. И всё…
С ночным пароходом я вернулся на Гаврилову поляну. Клавдия не спала. Когда я ей все рассказал, она ответила, что, увидев Мериньку во сне, она была убеждена в её гибели. Целую неделю искали тело, потом поиски прекратились. И вдруг опять Клавдия прибежала ко мне на работу и с искаженным от горя лицом сказала, что возвращавшиеся из города с пароходом пассажиры слышали рассказ о всплывшем у пристани на поляне Фрунзе утопленнике или утопленнице. И чтобы я сейчас же ехал. Поляна Фрунзе — это пристань, где высились бывшие купеческие дачи. Я поехал, на дебаркадере отыскал начальника пристани. Он показал мне, где шагов за сто на самом берегу Волги находилось нечто прикрытое рогожей; сверху сидели две вороны. В тот ясный вечер накануне выходного дня из города на пароходе прибыло много весёлых, нарядных людей. Я поспешил мимо них к тому, что было прикрыто рогожей, приоткрыл край. Не буду говорить, что увидел. Я не узнал утопленницу. Приоткрыл с другого края и поверх блеклого от длительного пребывания в воде купального костюма увидел нашитую наискось полосу. По этой полосе я догадался, что утопленница была Меринька. Пошёл к начальнику пристани. Он сказал, что мне, опознавшему труп, надо ехать в город, в речную милицию. Пароход отходил нескоро. Я сел на берегу невдалеке от трупа, изредка вставал – отгонял ворон. А мимо всё шли нарядные, весёлые молодые люди и девушки, никто из них не обращал внимания на то, что было прикрыто рогожей. Я сунул сторожу десятку, чтобы отгонял ворон, и уехал. Поздно вечером в речном отделении милиции с моих слов записали подробные показания. Я ночевал на пристани, утром на рассвете вернулся на Гаврилову поляну. На похороны в будний день мы не могли попасть. С тех пор прошло почти полвека, сын Мериньки от первого брака Саша Истомин уже вышел на пенсию. Он живёт в Дмитрове, изредка мы видимся. Меня он называет дядя Серёжа, хотя никаким родственником я ему не прихожусь. Когда я у него бываю, он старается меня поудобнее посадить, повкуснее угостить. Он меня очень любит. Над его письменным столом висит увеличенная фотография его матери ещё девушкой. Я сижу в кресле, любуюсь ею и вспоминаю ту давнюю страшную историю…
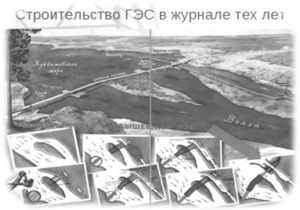 Наступил сентябрь 1940 года. Мы продолжали усердно работать. Я расхаживал с геодезическими инструментами, геологи описывали извлеченные из скважин образцы. В долине Волги и по склонам Жигулей пыхтели буровые станки – крелиусы. Мимо нашей конторы каждое утро и каждый вечер под охраной стрелков и собак проводили вереницы «зеков». Строительство самой ГЭС и земляной плотины не начиналось, геологи никак не могли точно установить створ будущего гидроузла, которому надлежало сидеть на твёрдых скальных грунтах. «Зеки» возводили различные вспомогательные сооружения, строили дороги. Однажды, посланный в город за горючим для буровых скважин, наш снабженец вернулся на катере с пустыми бочками. Он объяснил: горючего не дали, потому что строительство закрывается. «Что ты чушь городишь!» – воскликнул Анашкин. Он сам отправился в город, к вечеру вернулся и подтвердил известие. Оно взбудоражило нас, вольнонаёмных, несказанно, значит, переменяются наши судьбы. А в судьбах «зеков» всё остаётся по-прежнему.
Наступил сентябрь 1940 года. Мы продолжали усердно работать. Я расхаживал с геодезическими инструментами, геологи описывали извлеченные из скважин образцы. В долине Волги и по склонам Жигулей пыхтели буровые станки – крелиусы. Мимо нашей конторы каждое утро и каждый вечер под охраной стрелков и собак проводили вереницы «зеков». Строительство самой ГЭС и земляной плотины не начиналось, геологи никак не могли точно установить створ будущего гидроузла, которому надлежало сидеть на твёрдых скальных грунтах. «Зеки» возводили различные вспомогательные сооружения, строили дороги. Однажды, посланный в город за горючим для буровых скважин, наш снабженец вернулся на катере с пустыми бочками. Он объяснил: горючего не дали, потому что строительство закрывается. «Что ты чушь городишь!» – воскликнул Анашкин. Он сам отправился в город, к вечеру вернулся и подтвердил известие. Оно взбудоражило нас, вольнонаёмных, несказанно, значит, переменяются наши судьбы. А в судьбах «зеков» всё остаётся по-прежнему.
Замолкло пыхтение буровых станков, перестук топоров, грузовики отвозили стройматериалы на склады. Я тепло распрощался со своими рабочими-«зеками». Мы запаковали геодезические инструменты, и засели в камералке подводить итоги. Рассказывали, как произошло это историческое событие. В Москву был вызван главный инженер Жук. Отправился он в Кремль и где-то на дорожке встретил Сталина в сопровождении свиты. Великий вождь пожал ему руку и сказал якобы следующее: «Идёмте с нами в кино, говорят, очень интересный фильм. Зашёл разговор о том, о сём, и вдруг Сталин добавил: «Между прочим, мы решили ваше строительство закрыть». Так ли происходил тот достопамятный разговор или это легенда – не знаю.
Да, продолжать столь грандиозное строительство в то исполненное тревоги время действительно казалось излишним. На Западе полыхала война, Гитлер побеждал, он сокрушил в два счёта Францию, завоевал половину Европы. И хоть Сталин с ним подружился, но каждый, кто хоть мало-мальски понимал в политике, чувствовал, что дружба та весьма и весьма непрочна.
Но высказывать свои сомнения вслух не полагалось… В переписке с отцом я и он изъяснялись столь туманно, что порой мне с трудом удавалось разгадать отцовы мысли. В Куйбышеве развёртывалось иное строительство. Многие из наших, кто имел в городе квартиры, перешли на работу поближе от дома. Ну, а мы, вольные птицы, переезжавшие с жёнами, с детьми, а иногда и с престарелыми родителями туда, куда пошлют, ждали решения наших судеб. Никого не сокращали. Мы ждали, что решит высокое начальство, заканчивали обработку журналов, ведомостей, бумаг, чертежей для сдачи всей этой никому не нужной «писанины» в архив. И, конечно, рассуждали, а вернее, гадали на кофейной гуще, кого и куда направят. Управление гидроузла, переименованное в Гидропроект, переехало в Москву. В начале октября вышло постановление правительства – вместо одной грандиозной на два миллиона киловатт гидростанции строить несколько, по двадцать – тридцать тысяч киловатт каждая, по менее полноводным рекам нашей страны – по Верхней Волге, Оке, Клязьме, Верхней Каме, ещё где-то. Значит, мы разъедемся, кто куда получит назначение. Тюрин и Анашкин оставались в Куйбышеве, Куманин мечтал о Калуге, где жили родители его жены. Бонч собирался подальше от Москвы, а я, наоборот, вознамерился устроиться к Москве поближе – во Владимире или во Ржеве. Куманин, Бонч и я отправили письма начальнику Геологического отдела Семенцову, просили уважить наши желания. Вообще в те времена такие письма рассматривались как нарушения распорядка, считалось, что только начальству положено думать за своих подчинённых и решать их судьбы. А подчинённые должны покорно выполнять волю начальства. Куманин и Бонч получили предписания выехать в Москву. Мы сердечно распрощались. Я продолжал ждать и беспокоился – скоро наступят холода, отправлять ли семью вперёд, как решится моя судьба? Пришла телеграмма откомандировать Голицына в Москву. В середине октября я забрал семью, и с немногими вещами мы покинули Гаврилову поляну навсегда…»
мне с трудом удавалось разгадать отцовы мысли. В Куйбышеве развёртывалось иное строительство. Многие из наших, кто имел в городе квартиры, перешли на работу поближе от дома. Ну, а мы, вольные птицы, переезжавшие с жёнами, с детьми, а иногда и с престарелыми родителями туда, куда пошлют, ждали решения наших судеб. Никого не сокращали. Мы ждали, что решит высокое начальство, заканчивали обработку журналов, ведомостей, бумаг, чертежей для сдачи всей этой никому не нужной «писанины» в архив. И, конечно, рассуждали, а вернее, гадали на кофейной гуще, кого и куда направят. Управление гидроузла, переименованное в Гидропроект, переехало в Москву. В начале октября вышло постановление правительства – вместо одной грандиозной на два миллиона киловатт гидростанции строить несколько, по двадцать – тридцать тысяч киловатт каждая, по менее полноводным рекам нашей страны – по Верхней Волге, Оке, Клязьме, Верхней Каме, ещё где-то. Значит, мы разъедемся, кто куда получит назначение. Тюрин и Анашкин оставались в Куйбышеве, Куманин мечтал о Калуге, где жили родители его жены. Бонч собирался подальше от Москвы, а я, наоборот, вознамерился устроиться к Москве поближе – во Владимире или во Ржеве. Куманин, Бонч и я отправили письма начальнику Геологического отдела Семенцову, просили уважить наши желания. Вообще в те времена такие письма рассматривались как нарушения распорядка, считалось, что только начальству положено думать за своих подчинённых и решать их судьбы. А подчинённые должны покорно выполнять волю начальства. Куманин и Бонч получили предписания выехать в Москву. Мы сердечно распрощались. Я продолжал ждать и беспокоился – скоро наступят холода, отправлять ли семью вперёд, как решится моя судьба? Пришла телеграмма откомандировать Голицына в Москву. В середине октября я забрал семью, и с немногими вещами мы покинули Гаврилову поляну навсегда…»
Назад — Гаврилова поляна — главы 25 и 26 Далее — Гаврилова поляна — главы 29 и 30

There is apparently a bundle to know about this. I suppose you made certain good points in features also. Eleonora Gilles Rabin